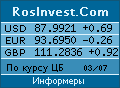|
Новости
07.01.22Письма из архива Шверник М.Ф.
05.01.22Письма Шверник Л.Н. из Америки мужу Белякову Р.А. и родителям
05.11.21Досадные совпадения
30.03.21Сварог - небесного огня Бог
30.03.21Стах - восхождение в пропасть
архив новостей »
|
Собственный домВ одно из летних воскресений, а все примечательные события происходили именно летом и по воскресным дням, да иначе и не могло быть тогда, мы с отцом идём по улице Розы Люксембург в сторону от церкви. Миновали последние бревенчатые избы посёлка, и подошли к глубокому оврагу, пересекавшему улицу, которая в этом месте заканчивалась. Вниз по склону бегом с ускорением, а потом вверх с замедлением, но бегом, и мы уже на пустынной стороне. С тех пор как я был в этих местах, произошли большие изменения. По обе стороны продолжения улицы возводилось пять домов, они занимали пространство до тракта. По тракту мы свернули налево и увидели ещё две начатые постройки. Первая из них была нашим домом, о чём отец сказал мне с гордостью. По разрешению властей инженерно-технические работники строительной организации за свой счёт начали строить собственное жильё. Тогда был период поощрения индивидуальных застройщиков, государство даже давало денежные ссуды им в помощь, разрешало организациям продавать строительные материалы своим работникам. Отвели место на окраине за оврагом, и дело пошло. Отец пришёл в то воскресенье работать вместе с рабочими и взял меня помощником. На настоящей стройке я оказался впервые. До помощника ещё не дорос, а вот слушателем оказался отменным. Шла укладка из соснового бруса первых венцов стен. Уже обозначился входной проём в будущий дом. В брусьях сверлили углубления для деревянных нагелей, препятствовавших их смещению, расстилали мягкий и пахучий мох, собранный на болоте, а потом высушенный, устанавливали нагели. Затем сверху укладывали очередной брус, и дом подрастал на глазах. Работа шла лихо. Я любовался тем, что происходило, задавал вопросы и усваивал обстоятельные ответы. Сколько же открылось мне тогда тонкостей в работе, смысл которых после объяснений становился понятным. Всё было взаимосвязано и поддавалось логическому строю. Значит, что-то было уже тогда в моей душе, что заставило заметить, обратить внимание на труд строителей, на строительное дело, заинтересоваться им. Позже оно станет главным и единственным в моей жизни. Вот рассказывают мне, как раз выполняя эту работу, что над оконным блоком между его верхом и поперечным брусом должен быть зазор. Со временем под нагрузкой швы, заполненные мхом, станут тоньше, их на высоту окна набирается много, нужно, чтобы при осадке перемычечный брус не раздавил оконный блок, чтобы щели над ним не было видно, прибивается обналичка, а пустота заполняется мхом. Приобщение к тайнам профессии состоялось, увиденные и услышанные тогда нехитрые премудрости остались в памяти навсегда. Эти несколько домов ещё до окончания строительных работ получили в деревне прозвище «посёлок цап-царап». Название явно намекало на нечестное поведение хозяев. В отношении нашей семьи такой подход исключался сразу. Не то было у отца положение, чтобы простилось ему какое-то финансовое нарушение. Мама тогда собирала все бумажки, квитанции, расписки, до копейки доказывавшие правоту застройщика. Она хранила их десятки лет, хранила даже тогда, когда сам дом уже не существовал, так как попал под снос. Ничего не осталось также от домов Силиной и Клевакиных. Возводили наш дом быстро. К осени он стоял под крышей, чуть подальше торцом к нему подходил сарай, ворота были заподлицо с фасадом дома, с четвёртой стороны возвышался сплошной деревянный забор общий с соседним двором. Таким образом, получалось замкнутое пространство, внутри его, прижимаясь к дому, от калитки до крылечка и дальше до самого сарая были деревянные мостки. В ту же осень со скотиной, курами, скарбом, постепенно накапливавшимся, мы опять переехали. Переехали из центра посёлка на его окраину, сохранив верность нечётной стороне улицы Розы Люксембург. Дом имел порядковый номер 115. Теперь это был собственный, и только наш дом. Хозяйство закрутилось без скрипа, жизнь шла по известным ей законам. Ничего не менялось, кроме нас, мы подрастали. Продолжали радоваться прилёту скворцов, смотрели, как они, вытесняя воробьёв, занимают скворечники, выкармливают птенцов, и те совершают первый полёт-падение. Вместе с тем не так быстро как птенцы, но и мы начинали пробовать свои крылья. У меня появилась комната с двумя окнами, с кроватью, стоявшей слева вдоль короткой стены и со столом для занятий. Я ещё не успел рассказать подробнее о первом и единственном собственном доме отца, который помню до мелочей, как, просматривая домашний архив, нашёл на страничной бумажке чертёж, сделанный рукой отца. План дома, главный фасад выполнены в карандаше тонкими чёткими линиями с размерами, выведенными каллиграфическим почерком. По этому единственному листочку дом и был построен. Интересно, что на чертеже дано всего девять размеров. В плане - 9 на 6,3 м. Ширина остеклённой веранды по дворовой стороне – 2,8 м. Высота от цоколя до карниза – 3, от карниза до конька крыши – 2,9 м. Ширина оконного проёма указана в двух местах по 0,9, толщина бруса наружных стен – 0,18 и перегородок - 0,1 метра. Какая простота «нравов» и насколько велика сообразительность умельцев-исполнителей. Чертёж дома, сделанный рукой отца. 1947г. О темпах строительства даёт представление такой пример. «Начальнику 4-го СУ т.Федосееву В.И. от прораба 2-го участка Фурмана А.Р. заявление. Прошу Вас разрешить мне 4-х чел. плотников на 5 дней для постройки сарая. Оплата будет мною произведена по нарядам за мой счёт. 21.07.48г.» Всего лишь неделя и очень важная составляющая хозяйства уже задействована. Расчёт с работающими на строительстве дома производил отец, получая в каждом случае расписку или справку, заверенную в бухгалтерии организации. Из множества образцов, сохранившихся и через пятьдесят лет, приведу два: «Расписка Матюшенко. Дана т.Фурману А.Р. в том, что мною получено 310 руб по частной договорённости, за произведённые мною работы на строительстве дома Фурмана А.Р. 13.06.48г. Заверила (подпись). Печать». «Справка дана т.Фурману А.Р. что мною Эйхвальдом И.И. получено по частной договорённости 300р. (триста) за настилку полов в доме в количестве 72 м2 в чём и расписываюсь. 3.07.48г. Заверено: (подпись) Печать». За приобретённые по заявлению в строительной организации материалы и изделия, больше их нигде не продавали, из зарплаты отца делались удержания. На 19 июля 1948 года было выплачено 1051руб. 57коп., на 17 декабря - 13972руб. 35коп., всего за дом - 16667руб. 13коп. Напомню, что месячная зарплата у прораба была 3 тысячи рублей. Отец на обратной стороне «синьки» вёл накопительный учёт расходов, там же есть и общая спецификация на материалы: «брус 18 на 18 - 17,5 м3, балки – 5 м3, переплёты – 12 м2, коробки дверные – 36 м2, оконные – 35 мп, доска половая – 3 м3, полотна дверные – 12 м2, доски - 9,5 м3, вагонка - 2,5 м3» и так до краски и гвоздей. Дом был построен быстро. Начиналось всё с заявления: «Начальнику 4-го СУ т. Федосееву В.И. от прораба 2-го уч. Фурмана А.Р. Прошу Вашего распоряжения отпустить за наличный расчёт строительные материалы на постройку своего дома, а также разрешить часть строительных работ выполнить рабочими 4-го СУ по нарядам в счёт моей зарплаты. Так как мне отведён земельный участок и имею большое желание приобрести своё собственное жильё, то убедительно прошу Вас удовлетворить мою просьбу. 01.10 - 47 года. Подпись». На «желании» отца уже 6-го октября наложена резолюция: «о снабж», что означало «отделу снабжения», «стройматер выписать» и роспись поперёк шести строчек заявления. Через год мы уже занимали, если говорить словами из заявления, собственное жильё. В дом вело крылечко в три ступеньки. За входной дверью небольшой тамбур, с одной стороны которого кладовая, а с другой - веранда. За тамбуром шёл коридор, из него направо кухня с окошком в огород и печкой для приготовления еды. В торце коридора дверь в мою комнату. Из её окна был виден за огородом дом моих первых друзей детства - Толи и Лёни Сотниковых. В левом углу коридора располагалась топка основной печи, её обогревающие поверхности выходили во все комнаты, кроме кухни. Перед печью вход в гостиную - большую просторную с круглым столом в центре, с огромным фикусом в ведре, с кроваткой сестрёнки, с окнами на тракт и веранду. Из этой комнаты вход в спальню родителей. Она имела меньшие размеры, чем моя. По правую руку у стены стояла кровать. Туалет был между кухней и моей комнатой, под ним выгребная яма. Воду носили в вёдрах на коромысле или возили в бидонах на санках из колодца метров за сто. Воды для хозяйства требовалось много, доставалась она с трудом, поэтому расходовалась экономно. Под рукомойником, висевшим на кухне, стоял тазик на табуретке. В собственном доме вся семья. Июль 1949г. *** С переездом в свой дом завершилось заточение детей. Мы и сейчас много времени с сестрёнкой проводили в доме, но теперь достаточно пройти 50 метров до улицы Розы Люксембург, а по ней немного направо, как окажешься в гостях у Сотниковых. Иван Сергеевич и Вера Ивановна Сотниковы были эвакуированы с Донбасса, родителей моих знали хорошо. Отец с И.С. работали в одной организации прорабами. Сотниковы были старше моих родителей, а их дети – Толя, Лёня и Тая - были младше меня. Наши родители не возражали против дружбы детей, и мы не могли не сблизиться. Мне и им не хватало общения, поэтому нас уже вскоре нельзя было разлить водой. Все летние месяцы проводили вместе, зачитывались книгой Льва Кассиля про страну Швамбранию, и сами создали для себя вымышленный мир тайн. Мы придумали своё государство с названием Непобедимая страна Кальдония, создали свой секретный алфавит, назвали себя Бодыр, Тодыр, Лёдыр, сделали в огороде верёвочную связь для передачи шифрованных записок, другими словами – играли. Сотниковы материально жили лучше нас. Они намного строже, чем мои родители, относились к детям, которые ходили по струнке, а доставалось им часто и от отца, и от матери. В нашей семье такой требовательности и жёсткости в обращении с детьми не было. Тодыр и Лёдыр были закалёнными, и легко переносили трёпку, принимая её как должное. Я им в такие минуты искренне сочувствовал. В поле за трактом мы раскапывали углубления в земле, размеры которых позволяли забраться вовнутрь одному из нас. В эти тайники складывали сотни «пугачей», так называли слепленные из глины круглые шары размером с яблоко. Обороняясь от нападок воображаемого неприятеля, мы бросали в него эти «пугачи», и они, падая на землю, рассыпались на множество частей-осколков. Сестрёнка моя увязывалась всегда за нами, плакала, если убегали от неё. Мама наказывала мне ни в коем случае её не бросать, но Тала была младше меня на пять лет и не вписывалась в нашу «мужскую» компанию. Ближайшие поля и лесные квадраты имели только нам известные названия. Мы часто со стаканами или кружками ходили за земляникой, черникой, костяникой, жимолостью, подбирали попадавшиеся грибы. Ягоды дома заливали молоком, давили их ложкой и ели. Так весь короткий ягодный сезон. *** Однажды меня отдали в пионерский лагерь. Располагался он на лесной вырубке километрах в пяти от посёлка. Было там несколько одноэтажных построек с большими общими комнатами, сплошь заставленными детскими койками. Между домами на площадке, где стоял флагшток, проходили линейки. Первая смена в лагере начиналась в третьей декаде мая, когда погода на Урале ещё неустойчивая. Могут объявиться и снег, и дождь, но всегда прохладно, независимо от вида осадков. Год на год не приходится, поэтому не стану говорить о погоде, как о явлении постоянном, случается всякое. В тот раз это всякое и случилось. Заливали дожди, дни проходили под крышей, много детей перед глазами, а ты на виду у них. После домашней жизни это шокировало. Еда в столовой по сравнению с маминой не нравилась, у неё и молоко, и яйца, и сало, и мясо, а тут не поймёшь что. Прошли первые шесть дней, наступило воскресенье, когда разрешалось посещение родителей. Конечно, я ждал их приезда, но никакой специальной программы своего поведения не готовил. Просто очень скучал и ждал. В этот день погода стала налаживаться, проглядывало солнышко, серая краска, покрывавшая всё вокруг, проявилась местами зеленью и синевой. Это удивляло и поднимало настроение. Даже не верилось, как многое здесь не разглядел из того, что меня могло заинтересовать. Родители появились в середине дня, и встреча с ними получилась тёплой и радостной. Было заметно, что и для них эта неделя из-за моего отсутствия показалась сложной, и они скучали. Вручение гостинцев, потом расспросы: «Ну, как тебе здесь сынок?» При этих словах что-то происходит. Исчезает появившаяся с утра бодрость, я надламываюсь сразу и без всякого видимого повода и уж точно без всякого перехода, который бы подготовил родителей, начинаю натурально реветь. Я не говорил слов, чтобы описать все прошедшее. Мой рёв и захлёбывания в слезах оказались красноречивей. За какую-то минуту мне так многое удалось передать об одиночестве, о сырости, о скуке, о любви к родителям, к нашей скотине, скучающей обо мне, что не только дрогнула мама, не зная как поступить, но дрогнул и отец. Решение о том, что делать, нашлось сразу. Оно было неслыханным по тем временам - меня забрали из лагеря домой. Вещички в мгновение собраны, директор предупреждён и получено его согласие, но мотивы отъезда остаются для него загадкой. Я уезжаю домой. Боже мой, как и тогда, и во все другие времена жизни, пока были живы родители, тянул к себе родительский дом. Это могли быть совсем разные дома и даже снимаемые, жильё и в деревне, и в городе, собственное и коммунальное. Но одно в них оставалось неизменным: заведённый родителями уклад и сами родители. Утварь, обстановка, еда - всё это во все времена было незамысловатым, но сдобрено любовью и теплом родителей, единственных на свете людей, много требующих от тебя, но принимающих таким, какой ты есть. Людей, которым всё можно доверить, получить прощение и во всём поддержку. В тот день я был вызволен из заточения, и больше в пионерлагерь меня не отправляли. В качестве помощника вожатого уже в Первоуральске было ещё одно приобщение к лагерю после восьмого класса, но это во всех смыслах совсем другое событие. *** На период проживания в собственном доме приходится одно памятное спортивное мероприятие, в котором участвовал отец, а наша семья и многие жители посёлка оказались болельщиками. Если от нашего дома пройти по тракту в сторону Свердловска метров триста, то оказываешься у лесной решетчатой деревянной арки с надписью «Стадион». Это входные ворота, от них в обе стороны уходит забор. На просторной вырубке, окаймлённой с трёх сторон стенами из сосен, лежало футбольное поле с воротами. Вокруг него грунтовая дорожка для бегунов, а с одной длинной стороны лавки в четыре ряда, каждая следующая из которых была выше. За лавками ларьки, торговавшие горячительными напитками, папиросами и непритязательной снедью. На футбол публика привалила семьями. Женщины держали места на скамейках, сплетничали, не переставая щёлкать семечки подсолнуха. Кожура у особенно искусных свешивалась с губы до подбородка. Они поглядывали за своими мужиками, подсаживаясь друг к другу ближе для доверительных сплетен, забывали одёргивать подолы, и выглядели на наш мальчишеский взгляд несколько странно. Ребятня показывала пальцами на нерасторопных толстух и смеялась. Мужики табунились у ларьков и пропускали спиртное даже без закуски, чтобы войти в форму к началу встречи. Футболисты же прямо на бровке поля, разделившись на команды, считали до одиннадцати, уточняя наличие участников. Жара стояла приличная и действовала на непривычных к ней уральцев разлагающе. Труднее всего было выпившим: они разморённые и осовевшие взбадривали себя криками и свистом, получавшимся классно. Я с друзьями заглядывал на стадион, благо он был рядом, и зимой, когда он занесён непролазным снегом, и летом, когда он длиной беговой дорожки уничтожал зарождавшееся накануне желание по ней пробежать. Мы садились на бровку и не решались на унылый однообразный бег на дистанцию. Если пробегали полный круг, то он изматывал. Не случайно, конечно, отец при первой возможности донимал меня упрёками и нравоучениями за то, что я не занимаюсь своим физическим развитием и не делаю по утрам зарядку. Это говорилось им в разные периоды моего возраста, и я соглашался с ним, будучи уже достаточно взрослым. Сам же он ни физразвитием, ни зарядкой никогда не занимался, а в сравнении со мной выглядел крепким и сильным. Он охотно ввязывался в разные соревнования, не имея навыков и опыта. Например, на базе отдыха в Первоуральске мужчины-руководители после того, как разминались за столом, выходили к волейбольной сетке прямо в костюмах, при галстуках и пробовали осваивать премудрости подач и приёма мяча. Со стороны игра не смотрелась, да её и не было как таковой, но сами они удовольствие получали, пробуя то, что не удалось испытать в молодые годы. В числе соревнующихся всегда видел отца. В одну из зим, когда возраст его подходил к 60 годам, он вдруг принял участие в индивидуальном лыжном кроссе. В своём обычном зимнем пальто, в рабочем костюме, в зимней шапке и с шарфом на шее он бежит на пять километров и добегает. До этого на лыжах не ходил, а что касается лыжных ботинок с креплениями, то их ни разу в жизни не примерял. В этом же соревновании он стоял на старте вместе со своей первой внучкой Иришей. Фурманов А.Р. с внучкой Иришей на старте. 1972г. В том же Первоуральске, когда коллективные сады оказались в черте застройки и попали под снос, новые разрешаемые тогда к пользованию земельные наделы в шесть соток выделяли за городом. От дома до сада набиралось километра четыре, с сумками пешком не находишься. И отец решил сам водить автомашину. Он готовится основательно. У меня берёт уроки вождения, учит правила дорожного движения, штудирует материальную часть. Даётся наука с трудом, но он всё же сдаёт экзамен по теории, со второго раза по вождению, и счастливый получает права на управление легковым автомобилем. Водил он осторожно в пределах дозволенного, гаишники его не штрафовали, даже если останавливали за мелкие нарушения. Может показаться, что ничего особенного в этом нет, каждый ребёнок теперь за рулём. Вроде бы так, но отцу в то время исполнилось шестьдесят восемь полных лет, а за всю жизнь автомобильной баранки он не касался. Тоже спортивное своеобразное достижение. Для отца спортом и зарядкой было хозяйство. Когда не держали скот, появился коллективный сад, там вся тяжёлая работа на нём. Мама говорила, что он железный. Особенно любил отец, забывая обо всём, копать, а пуще того оформлять грядки. С одной грабаркой в руках и с врождённым строительным глазомером он выводил ровные гряды и межи. Жару в теплице, где нужно было подвязывать помидоры, выносил только он один. Обнажённый до пояса, с сотнями крупных капелек пота на теле, перепачканный зеленью листвы и цветом завязи, отец неторопливо, но основательно работал часами. При этом он никогда не жаловался на усталость и не присаживался передохнуть. Его физическая сила и выносливость просто поражали. Мама, правда, говорила, что если бы она трудилась также медленно, как он, то могла бы совсем не отдыхать. Мы все понимали, что это шутка. *** Наконец-то, на поле выбегают футбольные команды. Публика, обалдевшая от жары, долгого ожидания, не видевшая ничего подобного много лет, подготовленная спиртным и общим гвалтом, вне себя. Футболисты на седьмом небе. Отправились они туда в длинных домашних трусах и майках, на ногах обычные носки и старые ботинки, которых не жалко, если они порвутся. Друг друга в таком виде они не узнают, только в лицо. Отца мы вычислить не можем, хорошо, что подсказывает мама, его исподняя одежда ей знакома, а нам нет. Я вообще до этого отца не видел в трусах, где же тут узнаешь. На землю футболистов всех разом опустил свисток судьи. И тут всё смешалось. Правил этой игры, если о происходившем так можно сказать, я не знал. Настоящий футбольный мяч трогать не доводилось. Глухая уральская послевоенная деревня - этим всё сказано. Мне тогда показалось, что для многих футболистов случившееся тоже было впервые. До конца мачта, именно так мы тогда говорили, а не матча - какое-то исковерканное слово - я не понял, зачем стояли ворота, они оставались в стороне от главных событий. Центр поля, как и положено центру, привлекал внимание игроков. Здесь каждый хотел, опережая другого, ударить по мячу. Нельзя же стоять в стороне, когда масса зрителей, повскакав на лавки, тут-то мне и пригодилась самая высокая из них, кричали: «Бей! Бей же!». Других слов, которые добавлялись при этом особенно разгорячёнными, я пока не знал. Мой словарный запас явно отставал даже от сверстников. В обстановке обилия новой информации мама тоже растерялась. Она без конца поворачивалась ко мне и говорила, чтобы я не слушал нехорошие выражения и не повторял их. Как можно не слушать - я не знал, а вот не повторять обещал. Точнее, я повторял выражения, но только ту их часть, которую знал ещё до начала игры. Вообще нехорошие слова в нашей семье никогда не произносились. У мамы самым нехорошим словом было слово «морда», отец не говорил даже его. Может быть, покажется странным, но когда я учился уже в институте, то при родителях, приезжая на выходной на побывку, я не говорил вслух слово «анекдот». В семье оно относилось к нехорошим выражениям. Таким же осталось отношение к нехорошим выражениям и в моей семье. Когда сын учился в третьем классе, он заступился за девчонку и сказал обидчику: «Не трогай её, а то я маме скажу». Тот, не задумываясь, ответил ему: «А твоя мама …». Саша пришёл домой расстроенный и сразу всё выложил маме: один мальчик назвал её нехорошим словом. Она стала допытываться каким словом именно, но он упорствовал и отказывался его произносить. Потом он предложил: «Давай я лучше его напишу». Сбегал в свою комнату, вернулся, бросил на порог кухни бумажку и убежал. На бумажке было написано слово «дура». Обожая Высоцкого, я привил своим детям любовь к его песням. Но когда, например, в его песне о посещении ресторана были слова: «На нас глядят бездельники и шлюхи», то на последнем слове я приглушал звук магнитофона. В целомудренных фильмах советской поры, когда у героев заканчивались мысли, и они, не зная, что дальше делать, собирались переходить к поцелую, я закрывал детям глаза. Крайности? Возможно. Сам так не думаю. Всему своё время. Я отклонился в сторону от футбольного поединка, но в это время как раз был перерыв между таймами. Второй тайм ничего не добавил кроме грязи на трусах и майках игроков. Удары теперь наносились лучше, по мячу попадали, и он взлетал высоко. Когда мяч поднимался к вершинам сосен, то ликование было всеобщим. «Вот это сила!» - вырывалось из грудных клеток многих. Истерзав вконец игроков и зрителей, матч вдруг закончился. Как играл отец, сказать не могу. Он всё время пропадал из виду. Я признавал его лишь тогда, когда он смотрел в нашу сторону и махал рукой, а смотрел он редко, и возможно это был не всегда он. Но не о его игровых качествах речь. Привёл эту историю по другой причине. На следующий день отец первый и последний раз в жизни не вышел на работу. Он не мог подняться с кровати, был совершенно разбит, всё у него болело, и он только жалобно стонал. Что значит, не делать зарядки по утрам и не тренироваться систематически. *** Школа теперь отдалилась от меня и в прямом смысле. И дом наш был дальше, и начальные классы я закончил, теперь пришлось посещать среднюю семилетнюю, которая стояла далеко за церковью. Набиралось километра два в одну сторону. По грязи, по снегу, по безлюдной улице Розы Люксембург, в полной темноте зимой, боясь каждого куста и умирая порой от страха, как не мчался быстро домой, едва переводя дыхание, дорога занимала много времени. Но не всегда была зима и темень, и преодоление пути давало возможность думать и говорить самому с собой. Самое лучшее время - одиночество, если оно не бесконечно длится. Оно так необходимо мне каждый день на какое-то время. Обо всём, о чём думалось, не расскажешь. А вот о чём особенно нравилось размышлять, скажу. Приятно было представлять себя известным человеком. Звучит-то как: «Борис Фурманов – Советский Союз». И так можно повторять сколько угодно раз. Блеск фразы не терялся. Другой приятностью, требовавшей большего умственного напряжения, было сочинение поэмы, завершение которой могло привести к тем самым словам: «Борис Фурманов - Советский Союз». О чём в ней будет рассказываться, не шибко представлялось, о чём-то таком, ну таком и будет такой, что тронет всех. Написать её не удалось, я даже не ушёл дальше первого четверостишия, да и его концовка, чувствовал нутром, мне не далась. Однако в сладостных творческих муках пребывал долго. Те первые строки врезались в мою память, и я могу привести их дословно, как они были, ничего не меняя. Дело в том, что и позднее я пробовал избавиться от нескольких накладок в том тексте, но не удавалось. Не потому, что написал текст близкий к шедевру, улучшить который нет надежды, а потому, что нельзя было улучшить, полностью не отказавшись от всего сочинённого. Только это будет уже иная, а не та детская наивная вещь. Поскольку я помню написанное тогда, и уже обмолвился о творении с претензией на известность, то неудобно было бы, столько наговорив, не привести подлинные строки: «Наступила ночь. Тишина вокруг. Только звёзды мерцают вдали, а по морю идут, друг за другом идут советские корабли. Не раз они в бой вступали. Немало одержали побед, а теперь домой возвращались на свой Кавказский хребет». Больше всего выводил меня из равновесия этот самый хребет. Ну, в бухте они могли ещё почти подойти к берегу, но не дальше. О судах на воздушной подушке, выходящих из воды на сушу, тогда ещё не ведали. Другое подходящее в рифму слово не находилось. На первом четверостишии я в итоге и сломался, забросив сочинительство на много лет. Следующее размышление, занимавшее меня по дороге домой или в школу, которое совсем не приносило приятных минут, было слишком серьёзным. Ни больше, ни меньше, как поиск ответа на вопрос, зачем живу, зачем живут окружающие, в чём смысл происходящего на земле, в чём смысл моей жизни? Подходящий ответ не приходил на ум, я устанавливал сам себе срок, когда это должно случиться. Потом срок продлевался на год, ещё на год. Разгадку сути не постигал. Наконец, определил для себя возраст в 25 лет, и до этого времени успокоился. Только эта дата, как и последовавшие за ней, ничего не изменили. Теперь не тешу себя надеждой, что секрет вечного вопроса откроется мне. Когда-нибудь это всё равно случится, но ушедшие из жизни ответа не узнают. Жаль, очень жаль! *** Школа стала для меня далёкой и в переносном смысле. Занятия перестали увлекать, учёба превратилась в наказание. Засыпал с надеждой, что завтра заболею, либо температура на улице упадёт ниже минус 35 градусов без ветра, или ниже минус 30 градусов по Цельсию с ветром. Такие холода порой случались, учёба откладывалась, пока несколько дней держались морозы, но этого хотелось чаще. Иногда мне казалось, что я, наконец-то, заболел, но градусник не отражал душевное состояние, а только температуру тела. Она была в норме, и приходилось под мамины подбадривания собираться в школу. Держался в учёбе только на том, что ежедневно вечером сдавал маме уроки. Сдавать уроки ей оказывалось легче, чем учителям, неуды были. Родительские собрания проходили тогда часто и с иезуитской регулярностью. Учителя были, видимо, великолепными психологами: маму на собрания не приглашали, а вызывали отца, видя в этом больший смысл. Его очень возбуждала информация учителей на собрании по поводу моих «успехов» в учёбе и поведении, хотя нового ими ничего не добавлялось. Затем уже дома разговор происходил только в присутствии широкого ремня. Мама была обязательно рядом. В день родительского собрания главным было лечь в постель до прихода отца. Тогда мама говорила, что Боря спит, а я это слышал за дверью своей комнаты. Отец кипел, но никогда не будил, он пересказывал услышанное в школе маме и несколько успокаивался, утром уходил на работу рано, а через сутки острота пропадала, по крайней мере, до широкого ремня не доходило. Наказание откладывалось до следующего раза. Своевременное засыпание не всегда удавалось, и тогда собеседование проходило по полной программе, упоминавшейся ранее. Почему-то самое плохое впечатление производили на отца слова учителей о том, что я способный и могу заниматься лучше. По моему мнению, это должно было настраивать его на мирный лад, на уверенное и спокойное ожидание изменений. Я, например, был признателен преподавателям за такую оценку, гордился даже ею, удивляясь тому, как они могут так глубоко заглянуть ребёнку в душу и разобраться в ней. Отца именно эта фраза выводила из себя. Он бы не стал меня наказывать, если бы ему говорили, что от вашего сына ничего не добиться. А после услышанных слов о том, что сын может заниматься лучше, ему казалось, что я не хочу это делать умышленно, специально бездельничаю. В таком случае надо принимать срочные меры, и они с надеждой на полезность принимались. Нравоучения я помнил несколько дней и эти дни им следовал. Потом всё повторялось. За что же мне по поведению делали замечания и ставили плохие оценки, ума не приложу. Поведение не относилось к знаниям, а по поведению, уж я-то себя знаю, должен заслуживать большего. Такой спокойный и рассудительный мальчик, и вдруг у него на обе ноги хромает дисциплина. Тут учителя заглядывали куда-то дальше, чем в душу, и видели мне недоступное. Что-то всё-таки было в моём поведении тогда и осталось на все годы учёбы, что подводило меня. *** С математикой можно было мириться, в ней присутствовал здравый смысл. Не всегда, конечно, кто же наливает воду в сосуд, забыв заткнуть пробкой слив, а иногда и несколько сливов, из которых она вытекает. Из-за таких растяп приходится тебе задумываться. Математика захватывала, ты вступал в приятное соревнование. Решал задачи я всегда сам. Мама помогала только тем, что говорила: «Ты прочти снова медленно условие задачи». Я читал, стоя возле неё, и меня вдруг осеняло. Иногда я сам шёл к ней, чтобы в её присутствии прочесть условие задачки. К отцу обращался в исключительных случаях. Решения он подсказывал редко, но, контактируя со мной, быстро приходил к выводу, что о моих скрытых способностях учителя говорят с явным преувеличением. Терпением объяснять он тогда не отличался. Иногда решение задачи приходило во время сна, что доставляло особенное удовольствие, я искренне тому радовался. Говорил тогда маме, что учителя несправедливы, когда говорят, что мало учу уроки, ведь я занимаюсь даже во сне. В самых исключительных случаях по математике и её многочисленным разветвлениям я не находил ответа. Из-за этого переживал, и успокаивался лишь тогда, когда никто в классе не мог решить задачу. В противном случае становилось обидно. Эта дисциплина нравилась. От картинок старины в учебнике истории с изображением воинов, сражений и т.п. меня почему-то тошнило. Учебником «Родная речь» очень дорожил, при покупке мама заплатила за него 300 рублей - сумасшедшие деньги по тем временам. Если давалась неделя, чтобы выучить наизусть стихотворение или отрывок из текста – неделя была отравлена. На такие задания учителя не скупились. Зубрил, пересказывал и в конечном итоге запоминал на всю жизнь, чем удивлял и детей, и внуков, когда начинал говорить на память то, что им задавалось выучить. Самым же жутким предметом был русский язык. Вот уж абсолютная бессмыслица. Это пишется не так, как слышится, это исключение из правил, и всё при этом не поддаётся логике и нормальному смыслу. Правила по русскому языку я запоминал плохо, а о применении их к месту и говорить не приходится. В диктантах часто заранее была известна оценка. В классе жарко, за окном весеннее солнце и первая зелень деревьев, учительница ходит перед доской и медленно читает текст. Ты перестаёшь смотреть в окно, вслушиваешься и по её произношению хочешь угадать правильное написание слов. Но она провоцирует на ошибки. Перебирал разные варианты: писать так, как говорит она, писать обратно тому, что слышишь. Если слово встречается в тексте дважды, пишешь его в одном случае слитно, а в другом раздельно, чтобы меньше допустить ошибок, но их всё равно хватало. Я поднимал руки и сдавался в плен русскому языку, они всегда у меня перед ним были приподняты. От сочинений бросало в дрожь. При домашнем творчестве за ошибки не боялся, мама в какой-то мере помогала, но составление фразы в несколько слов давалось с трудом. Писать же сочинение в классе – быть очевидцем конца света. Вот на экзаменах писалось легче - главное скопировать буква в букву шпаргалку, что считалось нормальным делом. *** Учёба донимала настолько, что когда однажды мама сказала мне о том, что из-за национальности отца мне разрешается закончить только семь классов и потом нужно начинать работать, а она была убита этой новостью, я отнёсся спокойно. Сделав несложные вычисления в уме по поводу того, сколько ещё предстоит учиться, я остался результатом доволен, но не показал виду. Расстраиваться по поводу введения учебного ценза причин не видел. Наоборот, это поможет прервать затянувшиеся школьные мытарства. Позднее, когда возбуждение прошло, меня это ограничение задело. Я «Борис Фурманов - Советский Союз» не допускаюсь к продолжению обучения не из-за плохой учёбы, а из-за неподходящей национальности. Что-то тогда произошло со мной, а тут ещё вскоре случился переезд в город Первоуральск, где я поступил в мужскую среднюю школу, и моё отношение к учёбе изменилось в корне. Я стал учиться не для сдачи уроков маме по вечерам, а для себя. Учёба стала высокой целью, достигнуть которую был заинтересован. Конечно, этому перерождению способствовали и многие другие сопутствующие обстоятельства. Взять такой случай. Учился со мной вместе в классе Леонид, фамилию которого называть не стану. Его семья была эвакуирована на Урал вместе с нашей, родители знали друг друга, но не дружили. О национальности отца они говорили, видимо, дома при детях. Не думаю, что родители специально настраивали своего сына на столкновение со мной. Выводы он делал сам. Когда я, забывшись, начинал задираться, он подходил и говорил: «Я знаю твою настоящую фамилию. Хочешь, скажу всем?» Говорил тихо, чтобы всё оставалось между нами. Он был крупнее и сильнее меня, и держать в послушании мог бы спокойно, не прибегая к упоминанию национальности. Но он выбирал этот безотказный вариант. Я застывал поражённый, так как порой действительно забывал о своей настоящей фамилии и думал, как поступить. Только ни я, ни родители ничего не придумывали, и никак мы не поступали. Спустя много лет мы работали с Леонидом в одной крупной строительной организации, где по должности я был старше. Работали долго, встречались часто, конфликты между нами не случались, не было даже намёков на них. Мне иногда хотелось напомнить те случаи из детства, но решимости не хватало. Считал, что он не мог помнить тех жестоких детских шалостей. Прошлое запоминается одному лучше, другому хуже, главное, как это событие касалось тебя лично. Меня оно касалось, потому я помнил. *** В жизни тех однообразных лет с маленькими радостями, когда были редки происшествия, случались и необычные вещи, оставлявшие след навсегда. К событиям такого масштаба я отнёс бы посещение театрального представления. Посёлок Северский от районного центра Полевского был километрах в семи. Это сейчас они почти срослись окраинами, а тогда убегавшая через плотину дорога в райцентр петляла в лесных зарослях, низинах и между горок. Старшие классы нашей семилетней школы освободили от последних занятий, построили колоннами, и со школьного двора двинулись мы с учителями в райцентр. В Полевском театра не было, представление давалось во дворце культуры, которые активно строились в городах в конце тридцатых годов. В него-то из областного центра приехала труппа оперного театра, кстати, известного в стране и в те времена. Приехала с декорациями, артистами. Давал театр оперу «Риголетто», а воспринимали мы её так, как умели. Возможно, кто-то и слушал музыку, но я больше смотрел. Декорации, свет, костюмы артистов не отпускали глаза. Сейчас понимаю, насколько убогим на самом деле был привезённый реквизит, но каким фантастическим он воспринимался тогда теми, кто ничего до этого не видел, кроме окружавшей ежедневной облезлости. Мелодий не помню, но артисты пели под музыкальное сопровождение. Из игровых инструментов видел огромный барабан и блестящие тарелки, привязанные к рукам музыканта. Временами он хотел освободиться от них и бил кулаком по кулаку. Эти два инструмента своими звуковыми эффектами пугали до смерти. Какие только подвохи они не устраивали. Гасился почти полностью свет, глаза начинали немножко обвыкать и замечать героев между декорациями, какой-то невидимый инструмент тянул тихую мелодию, ничего не предвещающую дурного, и вдруг: «Ба-бах!» Все вздрагивают и на какое-то время немеют, лишаясь дара речи и соображения. Это барабанщик, вошедший в сговор с тем, который не мог освободиться от тарелок, со всей мочи без предупреждения напоминали громом о себе. После их ударов каждый раз на сцене происходило нечто неприятное. Они накликивали беду на героев и держали в страхе зрителей. Только очнёшься и увлечёшься зрелищем, потеряешь самоконтроль, как снова: «Ба-бах!» И так весь спектакль. Я был так потрясён, глядя на оперу и слушая звуковые эффекты, так захвачен переживаниями героев, так был удивлён тем, что можно сделать на пятачке сцены, что не заметил, как ночью в темноте возвращались домой пешком по дороге, занесённой глубоким снегом. Вспоминая часто спектакль, задумываешься над тем, что кому-то нужно было показать мне и десяткам других малышей мир игры в той глухомани. Обойди меня тогда стороной единственное представление, что бы яркое вспоминалось сейчас о детстве? *** Дом наш стоял на обочине тракта. На правую сторону дорога уводила в Полевское и просматривалась только на две сотни метров, так как за кузницей ныряла под уклон и забирала в сторону, будто отворачивая от кладбища. В этом направлении особенно и не тянуло смотреть. Налево дорога уходила на Свердловск и пока, скрывалась за лесом, делала по полю два поворота, всё оставаясь перед глазами. Просматривалась она на целый километр. По тракту, в зависимости от сезона, двигались то телеги, то сани с запряженными в них лошадьми. Совсем редкими, но всепогодными, были автомашины. Всё живое и неживое перемещалось медленно, так что, увидев вдалеке движущийся предмет, можно было решить несколько упражнений по математике, пока он приблизится. До Свердловска от дома лежало километров сорок многострадальной дороги. Зимой её местами переметало снегом, и она много отдыхала, летом работать приходилось больше. Мама однажды с возницей поехала в Дегтярск, и за санями вечером увязались волки. Лошадь храпела, неслась без подхлёстывания кнутом, и это был единственный раз, когда они доехали быстро по бездорожью. Дорога в Свердловск занимала день, на автомашине меньше, но не в любую погоду. Когда наступала весна, или летом после дождей езда по тракту становилась большой мукой. В областной центр родители ездили редко, раза два с собой брали меня. Выезжали после работы, и только к ночи добирались до окраины Свердловска, там, у пожарной каланчи останавливались переночевать в избе знакомых. На следующий день покупки в центральных магазинах и в обратный путь, возвращались поздно. Свердловск мне не нравился, много людей, все незнакомые, трели трамваев, тебя держат за руку целый день. Тогдашние кошельки имели защёлку, состоящую из двух металлических блестящих шариков. Так как мама в одной руке крепко держала самое ценное, то есть мою руку и свою сумочку, то следы от шариков сохранялись на коже долго и болели. Боясь меня потерять, она не отпускала мою руку ни на секунду. Кошельку в этом смысле было легче, его хоть время от времени открывали и интересовались, как он переносит посещение магазинов. Толчея, бестолковщина и в итоге быстрое уставание. Походы по магазинам для меня были пыткой, и уже тогда я их возненавидел на всю жизнь. Может поэтому созерцание из домашнего окна спокойно лежащего перед тобой тракта не вызывало желания ехать в Свердловск или дальше. Смотреть на дорогу было куда интереснее потому, что на ней, пусть и с перерывами, но всегда что-нибудь происходило, не оставляя отпечатков на руке. Прямо тот же телевизор, у которого одна программа и демонстрируется бесконечное по продолжительности неторопливое кино. *** Тогда карточную систему ещё не отменили, по продовольственным карточкам, получаемым на каждого члена семьи, выдавалась и основа питания - хлеб. Хлебные карточки имели крохотный размер, они отрывались от общего листика. Берегли их пуще всего. И всё-таки наибольшее количество потерь и краж приходилось именно на них. Меня посылали иногда за хлебом в магазин, до которого было далеко, и возможность потерять драгоценность предоставлялась всякий раз. Однажды я ею воспользовался без злого, естественно, умысла. Возвращаясь с буханками хлеба домой, я обнаружил пропажу карточек и похолодел. Карточек было на целую неделю, что это совсем не шуточное дело, я представлял. Дорога в магазин и обратно с разглядыванием всего, что попадалось под ноги, ничего не дала. Как их найдёшь, когда может быть украли, да и, выпавши, они не дожидались бы меня. Их подобрал или ветер, или какой-то счастливчик. Состояние у меня было паническое, в ворота я входил уже зареванным. Вид был таким, что мама бросилась спасать меня, ещё не зная от чего. Она всё спрашивала: «Что, что с тобой случилось?» Делала при этом упор на слово «с тобой». Я ещё не был готов сказать о потере карточек, и моя задержка с ответом приводила маму в панику. Когда я, захлёбываясь, наконец-то, поведал о причине слёз, то у неё вырвался вздох облегчения: «Слава Богу, что с тобой всё в порядке!» Она не упрекнула меня за потерю ни одним словом, а подарила мне тут же 10 рублей, лишь бы я успокоился. Вела она себя так не потому, что мы не нуждались в карточках, нет, она видела, как сын переживает, а она меня исключительно любила. Я для неё всегда и надежда, и свет, и всё остальное, за мной стояли уже все другие. К Тале она так не относилась, и сестрёнку это задевало. Зато отец так не был привязан ко мне, как к дочери, а она - к нему. *** Не могу сейчас точно вспомнить дату, но, скорее всего, это произошло вскоре после войны. Отец поздним вечером забирает меня с собой, и мы идём на завод, где мне раньше бывать не приходилось. Там намечено торжественное мероприятие - митинг по случаю ввода в эксплуатацию цеха белой жести. Так называвшаяся белая жесть - оцинкованное кровельное железо, необходимое для восстанавливаемого народного хозяйства страны: жилья и других объектов. Ажиотаж по поводу ввода мощности был огромным. Цех готов к митингу. На это особенное в жизни строителей событие отец берёт меня. Что движет им? Желание показать производство, в которое вложен его труд, и он гордится результатом, или приобщение своего сына к профессии строителя. Если так, то он смотрел очень далеко и не ошибся. Возможно, то и другое вместе он передаёт сыну с надеждой, что тот последует по его стопам. Важный шаг в семейном масштабе совершает он тогда. Мы в цехе, проходы, лестницы и переходы заполнены людьми. Цех сияет чистотой, как и лица присутствующих, полно света. Я тогда не разобрался в том, что происходило внизу у прокатного стана, да из-за роста и не всё видел. Но зато видел счастливых людей и понял, что у них всё получилось там, где грохотало, искрило, сверкало. Крики, улыбки, рукопожатия, объятия и поздравления друг друга. Их ожившее творение вошло в большую жизнь. Кому тогда из присутствующих могло прийти в голову, если это не приходило мне, что среди митингующих в моём лице находится будущий первый министр Российской Федерации по строительству. Пусковое событие запомнилось навсегда. Спустя 50 лет я по служебным делам посетил Северский трубный завод и встречался с его молодым директором эпохи, так называемой, перестройки. Держался он высокомерно, хвалился тем, что коренной северчанин и всё здесь знает. Я спросил его в разговоре: «Когда был введён на заводе цех белой жести?» Он осёкся, так как не знал этого, и начинает слушать меня. Родился директор, как выяснилось, через 15 лет после того митинга. Только для него всё равно это не оправдание. Видел там, в заводском музее немногочисленные фотографии военных лет по строительной тематике. Лопаты и тачки, тачки и лопаты, обносившаяся одежда, измождённые лица безымянных тружеников, вынесших на своих плечах немыслимый труд сурового времени. За какие и перед кем грехи досталась им такая доля, в чём их вина? Что же всё-таки творилось? Очень много рабочих было из Среднеазиатских республик. Люди, не ведавшие холодов, не видавшие снега, мёрзли, кутались в свои халаты, не имея другой одежды. Без строительной профессии, ничего не умеющие, голодные, греющиеся постоянно у костров, спящие на ходу, в состоянии постоянного оцепенения. Сколько их замёрзло тогда, сколько их тел приняла в себя уральская каменная земля. Люди приезжали на смерть, хотя и не были заключёнными, и безропотно, как неизбежность, принимали её, даже не говоря на языке тех, кто к ним обращался. В их одеждах находили иногда зашитые деньги или монеты на чёрный день, время прихода которого человек предвидеть был не в силах. Это непосредственно не относится к теме «Семейной книги», я отклонился в сторону, но такие отдельные штрихи помогают правильно расставить акценты и показать, что за улыбчивостью некоторых событий, стоял звериный оскал сути жизни, тяжёлой и страшной. В той обстановке наш семейный островок при всех переживаниях, выпавших на его долю, был вполне благополучным. За это надо быть благодарным родителям и судьбе. *** Ту первую новогоднюю ёлку, как и все потом последующие, украшали мы вместе с мамой. Стеклянных игрушек у нас не было. В магазине покупали разноцветные бумажные флажки, нанизанные на длинные нитки, а также картонных зверюшек на ниточках с петельками. Много было самодельных украшений из бумаги: снежинки и цепи. Снежинки делались легко. Лист бумаги складывался несколько раз, и ножницами вырезались всевозможные формы. Когда листок расправляли, то на нём оказывался симметричный причудливый рисунок. Для цепей нарезались полоски, они склеивались в колечки мучным клеем, который варила мама. Перед склейкой очередного кольца, полоска продевалась в предыдущее. Цепи делались длинными и несколько раз опоясывали ёлку. При этом я и даже маленькая сестрёнка знали, что цепями украшать ёлку не разрешается. Они символизировали неволю, закабаление, а мы жили в свободной стране. Но в семье их всё равно делали и наряжали ими зелёную гостью. Больше всего на ёлке висело обёрток от конфет. Собирались фантики весь год, коллекцию из них берегли. Из обёрток имитировали конфеты и подвешивали на ёлку. Подвешивали также настоящие конфеты, печенье и пряники. Постепенно всё съедобное с ёлки исчезало, только разорение начиналось после встречи Нового года с разрешения взрослых. *** И ещё маленькое добавление о налоговых порядках и системе различных сборов той поры, о которых дают представление сохранившиеся в огромном количестве платёжные извещения и квитанции об оплате. Особенно много их приходится на 1950 год, перед переездом семьи из Северского в Первоуральск. Приведу примеры. «Справка дана в том, что Фурманов А.Р. с поставками молока государству рассчитался полностью. Что и удостоверяется». Это натуральный налог, взимавшийся с владельцев крупного рогатого скота. Сбор берётся ещё и деньгами, он составляет 30 рублей за год. Отец платит подоходный налог в размере 377 рублей 20 копеек за тот же год. Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР, так как в семье было два, а не три ребёнка, собирается с каждого из родителей в отдельности. С отца 22 рубля 08 копеек, с мамы 15 рублей. Этот налог после окончания института платил и я, когда был холостяком, потом малосемейным гражданином вплоть до отмены таких сборов. Есть квитанция, подтверждающая оплату в сумме 97 рублей 60 копеек за инвентаризацию дома, выполненную службой БТИ (Бюро технической инвентаризации), ещё 16 рублей за выданную справку, запрошенную какой-то службой и т.п.
|